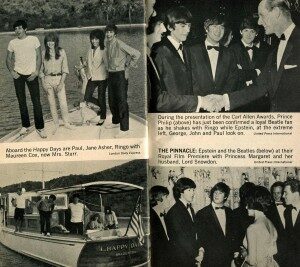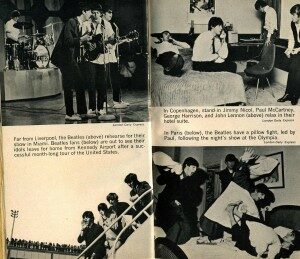Глава 2
НАЧАЛО
В 10 лет меня исключили из Ливерпульского Колледжа, и, хотя мои родители нашли это далеко не забавным, я, в силу возраста, не сильно-то переживал, поскольку Ливерпульский Колледж был не единственной в мире школой и, определенно, не самой лучшей из них.
Меня выгнали за «невнимательность и недостаточные умственные способности». Перед вызванными родителями развернули всю картину моего падения, последовательно заполнив в свойственной преподавателям манере каталог моих преступлений.
Старший воспитатель объяснил, что не может быть и речи о моем пребывании в школе, коллектив которой я совсем не украшал, и в качестве подтверждения моей непригодности предъявил рисуночек, изготовленный мною под партой на уроке математики. Там были изображены танцующие девочки, и для 10-летнего мальчугана тянули на прекрасный образец творчества, впрочем, не имеющий ничего общего с математикой.
Помнится, учитель математики, обнаружив вышеупомянутый листок, не продемонстрировал большого воображения и положительной реакции. «Эпстайн!- громыхнул он,- что это за кусок вздорной чепухи?!» И я ответил: «Рисунок, сэр».
«Чепуха, дрянь и девчонки»,- усмехнулся он и выдворил меня из класса, положив начало коротким, остросюжетным путешествиям, которые в конце концов затуркивали меня на родной домашний диван, напротив которого сидел мой отец и со справедливой, но чахлой патетикой восклицал: «Я просто не знаю, что нам с тобой делать!»
Я тоже не знал, и прошло еще 15 лет, прежде чем я стал подавать кое-какие надежды. Очевидно, я был самым медленно развивающимся ребенком, так что даже в 25-летнем возрасте слабо представлял контуры своей будущей жизни. Если бы Китс был столь же медлителен, как и я, он едва ли успел бы написать пару стишков за всю свою жизнь.
В течение этого времени мои родители не раз впадали в отчаяние, и я их не виню, ведь все свои школьные годы я был мальчишом-плохишом, которого дразнили, запугивали, мучили придирками и не любили ни сверстники, ни учителя.
К десяти годам я сменил целых три школы и ни одна из них мне не понравилась.
Я был старшим сыном – почетная позиция в еврейской семье, – от которого много чего ожидают. Гарри, мой отец, сын польского эмигранта, естественно рассматривал меня в качестве достойного наследника семейного бизнеса, но, увы, вряд ли разглядел совсем иные качества, прикрытые лояльностью семейным устоям, которые, благодаря упорству родителей, остались непоколебимыми.
Я родился 19 сентября 1934 года в роддоме на Родни-стрит в Ливерпуле. Это своего рода Харли-стрит (улица в Лондоне, где находятся приёмные ведущих частных врачей-консультантов – прим.перевод.) нашего города – широкая и величественная улица высоких старых домов с медными табличками и известными именами на стенах – неплохое место, если уж Вам выпало родиться в Ливерпуле, который, по общему мнению, не слишком прекрасен.
Моя мать Куини, до сих пор очень красивая женщина, чрезвычайно гордилась тем, что ее первенец – мальчик, и когда 21 месяц спустя появился на свет мой братец Клайв, чета Эпстайнов выглядела олицетворением счастливого и многообещающего семейного союза.
Сейчас, спустя 30 лет, все вернулось на круги своя, но сколько же непонимания, неудач и несчастий пришлось испытать, пока наша семья не обрела своего истинно семейного содержания. Я не был лучшим из сыновей и уж конечно худшим из учеников.
Моей первой школой стал детский сад, где с помощью фанерной плиты я раскурочил несколько деревянных формочек. Из картона я сконструировал несколько моделек, но они никак не склеивались. Из одного лишь вялого подражания я научился читать и писать.
Когда я дорос до 6 лет, Гитлер, превратившись в изрядного надоеду, предпринял досадную попытку разрушить Ливерпуль, и хоть мы и проживали в нескольких милях от уязвимых мишеней-доков, наш пригородный район Чайлдуолл был слишком близок к ним, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Тысячи ливерпульских детей были эвакуированы в сельскую местность и разлучены с родителями, но некоторые семьи решили запереть свои дома и двинуть всем скопом либо вдоль по Мёси в прибежища полуострова Уирэл, либо вверх по побережью к Саутпорту, где располагалась состоятельная еврейская община.
Мой отец выбрал Саутпорт, и мы оставались там, пока бомбардировки не прекратились. Я был определен в Саутпортский Колледж, где предпринял свои первые попытки рисования и дизайна, принесшие мне огромное наслаждение. Но вдали от теплого покровительства детского сада, впервые столкнувшись с чуждой мне дисциплиной учителей, уделявших внимание лишь продвинутым кандидатам в школьники, я начал осознавать, что мне нечего рассчитывать не только на успех, но и на нечто удовлетворительное; снискать популярности мне не удалось.
Крохотный ребенок из благополучной семьи и понятия не имеет о популярности или внешних связях. Существуют его родители, они любят его, только и всего.
Но, подрастая, я обнаружил, что не очень-то приспособлен к формальной дружбе. Я считал, что сейчас не слишком успешен в этом деле, но вот позже, когда стану поприятнее, все наладится.
Сегодня, конечно, в моих взаимоотношениях с другими людьми наличествует иной фактор. Я располагаю большим количеством, как бы получше выразиться, власти, что ли. Это, в свою очередь, несет другие проблемы, так как теперь трудно распознать, интересен ли я сам по себе или на первом месте выгода и власть. Другими словами: людям нужен я или выход на битлов?
В 1943-м бомбардировки, похоже, прекратились, и моя семья вернулась в Чайлдуолл. Меня забрали из Саутпортского Колледжа и, после собеседования с директором Ливерпульского, приняли в его стены в качестве ученика, не ожидая больших успехов.
Опасения строгих и честных учителей, под чьим контролем находилась эта небольшая начальная школа, подтвердились; оттуда меня, как я уже сказал, вытурили. «Изгнание» — безобразное слово, и я всегда верил, что оно подходит лишь хулиганам, ворам, врунам – или всем им вместе взятым, как например Флэшмэну – герою «Школьных дней Тома Брауна» — скучной книги, прочитанной мною безо всякого энтузиазма.
Но я не был хулиганом – для этого я был слишком худощав и труслив. Я не был воришкой, так как родители давали мне все, что я хотел, и даже больше; наврать тоже было мало шансов, поскольку я вообще с трудом разговаривал с кем бы то ни было. Однако, меня изгнали.
Ливерпульский Колледж я покинул без сожаления.
Одним из характернейших моментов, что мне довелось там испытать, да и в других школах в те годы, да и позже, был антисемитизм. До сих пор он прячется за ближайшим углом под самыми разными масками; сейчас-то мне на него наплевать, другое дело – в юности.
Легко отнесясь к своей отставке из Ливерпульского Колледжа, я все же обязан был претендовать на минимальное образование, а вот мои родители уже теряли голову. Мой отец – простой человек – в свое время неплохо успевал в школе, и он никак не мог понять, почему я оказался столь неудачливым учеником.
Изгнание из колледжа исключало, конечно, возможность поступления в оконченный когда-то отцом Ливерпульский Университет или какой другой институт, Искусств, например (который много лет спустя чуть было успешно не окончили два битла). Хорошие классические школы не нуждаются в изгнанниках школ начальных.
Тогда меня записали в частную школу, где преподаватели не задавали лишних вопросов, но и оттуда родители забрали меня через несколько недель ввиду полной неудовлетворительности результатов обучения.
Произошло это в Ливерпуле, и было столь обескураживающе, что разошедшиеся (прошу прощения) со мной во взглядах родители решили больше не отдавать меня в школу, а обучать на дому. Загвоздка состояла в том, что предлагавшие свои услуги репетиторы тоже, в основном, не имели среднего образования.
Ну, в печали, как говорится, оборотись к религии. И с самыми светлыми надеждами и советами меня отправили в еврейскую подготовительную школу под названием «Биконсфилд» возле Колодцев Тайнбриджа. Там мне понравилось чуть больше, и я даже преуспел в верховой езде и рисовании. Начали завязываться кое-какие связи с окружающим миром: я сдружился с лошадью по кличке Янтарная, которая не страдала антисемитизмом и плевать хотела на то, что меня выперли из Ливерпульского Колледжа.
Тем временем мне исполнилось 13 лет, а это срок сдачи экзаменов в публичную школу, которые я с треском провалил.
К этому моменту я возненавидел образование как таковое. Я был неудачлив в математике и прочих науках. Не имел никаких положительных рапортов от предыдущих учителей, поскольку, чувствую, они не были склонны хвалить меня хоть за что-то. Одно за одним шли после-экзаменационные собеседования, и одна за одной закрывались для меня лучшие школы Англии — Регби, Рептон, Клифтон и прочие.
Итак, любимые родители опять столкнулись с проблемой, что мои колени вот-вот перерастут размер парты, а я так и не покину школу должным образом. И они решили ее, как и другие папаши и мамаши до и после них, отправив меня в одну из благотворительных закрытых от прочего мира академий, где собираются всякого рода неудачники.
Одна такая академия располагалась в Дорсете. Она специализировалась на спорте, и я играл в регби, скорее, по инерции, без особых успехов, зато вечера с упоением посвящал дизайну и рисованию. Искусство тогда не считалось прибыльным, достойным джентльмена занятием, однако мне оно было ближе всего. И в этой единственной области я, кажется, преуспел.
Когда мы вернулись в Ливерпуль, мой отец – достойный горожанин и примерный глава семьи, продолжил трудные поиски подходящей для меня школы, поскольку в этом, по причине возраста, скоро могла отпасть необходимость.
Он преуспел в своих поисках, и осенью 1948-го вскоре после моего 14-летия отец с братцем пожаловали в Дорсет, дабы известить меня о том, что я перевожусь в Рекин Колледж в Шропшире – хорошо известную среднюю школу, выпускавшую администраторов и прочих руководителей, хотя и не такого уровня, как Итон или Хэрроу.
Меня вовсе не привлекало это спартанское прибежище, поэтому я вымолвил лишь: «Ох!», и в конце учебного года записал в дневнике: «А теперь о Рекине, который ненавижу. Я перевожусь туда лишь потому, что этого хотят мои родители… Жаль, ведь это был отличный год для меня. Рождение новых идей и, хоть маленький, но все же рост популярности».
Чуть позже я записал — и повторяю это в грустных воспоминаниях: «До моего водворения в Рекин мы провели денек в Шеффилде – родном городе моей матери. Я рассчитывал посетить «Гранд». Но – нет».
«Гранд» был огромным дорогим отелем, самым большим в Шеффилде, и любопытно, что даже тогда я чрезвычайно расстроился, что не был туда допущен. Сейчас, ощутив дискриминацию в ее безудержном и еще более дорогостоящем масштабе, я по-прежнему нахожу немного радости в том, чтобы быть не допущенным к самому лучшему, и, может, именно это неодолимое стремление привело меня в бизнес и будет продолжать подстегивать мою активность.
Итак, Рекин пришел и ушел. Ни он мне не понравился, ни я ему. Записи учителей гласили «Мог бы и лучше» или «Вялые усилия в этом семестре», и думаю, они, видимо, были правы. Исключая два положительных отзыва: я стал хорошим рисовальщиком и неплохим любительским актером. Играл в «Венецианском купце», ну, не Шейлока, конечно, и в обычных школьных одноактных пьесках, где получал истинное наслаждение, подавая реплики партнерам.
В искусстве рисования я достиг вершины формы, чему был весьма рад, так как, терпя неудачи в широком диапазоне предметов, я все же хотел быть хоть в чем-то лучше остальных. Основываясь на своих успехах в рисовании и живописи, в возрасте 16 лет я – перед самыми выпускными экзаменами – написал родителям, чтобы они забрали меня из школы, поскольку-де уже могу работать дизайнером-костюмером.
Это вызвало у окружающих прямо таки физическую боль. Учителя Рекина искренне считали, что покинуть школу, не получив никакой квалификации, просто чудовищно, а мое дизайнерство не стоит и выеденного яйца.
Отец был не только согласен с ними, но и дополнительно сокрушался о том, что такая профессия, по его мнению, не только не принесет дохода, а хуже – приведет меня в стан безработных. Впрочем, этого не произошло.
И вот, несмотря на то, что я мог отличать плохой дизайн от хорошего, мог рисовать и создавать новые формы одежды, а моим единственным желанием было — стать дизайнером, я пошел по на удивление нелогичному для сына и наследника пути – прямиком в семейный бизнес, не питая к нему никакого интереса и надежды на успех.
Поскольку… если бы Вы прошли семь школ, подобно семи кругам ада, из одной были бы просто изгнаны, а единственное Ваше призвание оказалось поруганным, Вы бы уповали на любой шанс, так что 10 сентября 1950 года в мебельном магазине Уолтона появился худенький, розовощекий, полуобразованный, кучерявый паренек чуть старше 16 лет.